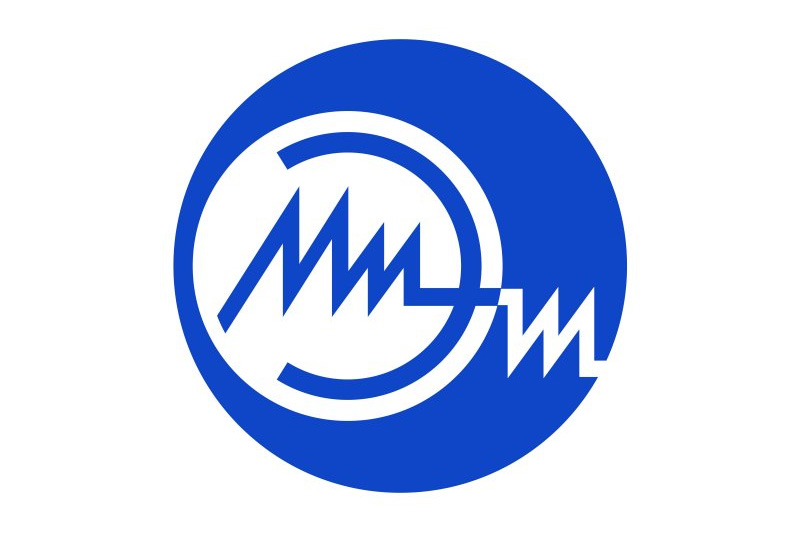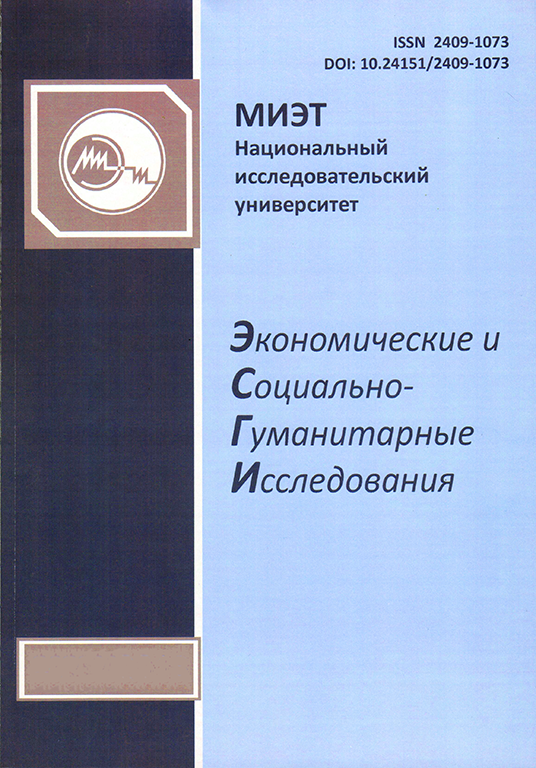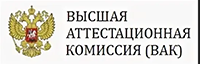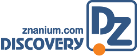сотрудник
Зеленоград г, Москва, Россия, г. Москва и Московская область, Россия
УДК 304.9 Критика и освещение общественной ситуации. Планы усовершенствования общества. Социальные утопии
Подчеркивается антисистемный характер постгуманизма в рамках его противопоставления традиционным ценностям. Анализируется ситуация раскола между системами ценностей политических идеологий либерализма и консерватизма. Рассматриваются механизмы образования антисистемных явлений в социальной общности и связи социального характера с социальной системой. Основная роль в поддержании востребованных социальной системой ценностей отводится влиянию креативного класса на социальный характер. Обозначаются утопические тенденции в противопоставлении системы ценностей информационного и традиционного общества, в представлении о социальной норме, в политике продвижения и поддержки разнообразия в художественном творчестве. Автор приводит исторические примеры трансформации антисистемных политических движений и методом сравнения показывает антиисторизм в трансформации ценностей и дихотомию как его результат. В коммунистической идеологии автор сопоставляет преобразование природы человека через пропаганду и возвращение к историческому опыту. Рассматриваются возможные перспективы постгуманизма на основании существующего исторического опыта.
система, антисистема, девиации, политические ценности, социальная общность, социальный характер, идентичность, утопизм, идеология, антиисторизм, интеллектуальная традиция, социальная традиция, идея, представление, коммунизм, леволиберальный проект
Art. ID: m02s02a10.
Введение. Раскол либерализма и консерватизма. Утопическая тенденция в либеральной идеологии
Существенным признаком текущей социально-политической ситуации является раскол между основными политическими идеологиями. С распадом социалистической системы коммунистическая идеология в значительной мере утратила свое влияние на политическую систему, что свело политические процессы к противостоянию либерализма и консерватизма как левой и правой сторон идеологического спектра.
Общеизвестно, что в последние десятилетия XX в. и первые десятилетия XXI в. либерализм и консерватизм представляли собою сходные общественно-политические направления на базе общей национальной идеи превосходства евроатлантической цивилизации и ее базовых институтов, консенсуса между правящей элитой и массами в рамках сильного государства (в США) или сильного надгосударственного образования (для Евросоюза). Расхождения между левой и правой идеологией ограничивались текущими вопросами социально-экономического управления. Однако в последние годы обнаружился раскол идеологий, затрагивающий сущностные вопросы человеческого бытия. В содержании консервативной идеологии при этом сохранились постулаты о неизменности и заранее заданной определенности в человеческой идентичности, о приоритете интересов социальной общности над интересами отдельного индивида, признании важности исторической и религиозной традиций. Вместе с тем либерализм идею защиты прав человека и гражданина преобразовал в идею признания личности человека бесконечно трансформируемым конструктом идентичностей, при отрицании значимости социальной общности и традиции как таковой. Эти преобразования леволиберальной идеологии заслуживают особого исследования, так как в своем развитии доходят до отрицания ее первоначальных постулатов, а базовая идея защиты прав личности от давления социальных институтов доводится до крайней, превращенной, переходящей в абсурд формы. Вследствие этого идеология, призванная определять ценности современного общества, трансформируется в утопию «открытого», «прозрачного» социума со всеми характерными для утопического проекта признаками и противоречиями. В той же мере утопизация леволиберального проекта может рассматриваться как часть общей тенденции западноевропейской цивилизации. В этом аспекте цивилизация соответствует пониманию О. Шпенглера, это — изжившая себя культура, неспособная к творческому созиданию нового. Содержание идеологий такой цивилизации либо статично, творчески не развивается, либо принимает «превращенные формы» (Маркс, 1964: 26.3: 137; Мамардашвили, 1970).
Социальный характер против усиления антисистемных социальных явлений
Предполагая наличие утопической тенденции в либеральной идеологии современного социума, рассмотрим показатели дисфункции социальной системы. Социальное целое считается функционирующим, если его институты обеспечивают ответы на возникающие перед системой вызовы и если эти ответы удовлетворяют потребностям социальной общности. Отсутствие такой способности связано с дисфункцией социальной системы и выводит на первый план антисистемные явления. Очевидно, что не всякая потребность может быть признана социальной системой как имеющая право на удовлетворение, не всякая практика может признаваться как допустимая для сохранения социального целого. В связи с этим в социальной системе с неизбежностью возникают теневые экономические, политические и социокультурные структуры, обеспечивающие деятельность, признанную в социальной системе недопустимой.
Множество утопических проектов предлагали такие виды социальных систем, при которых антисистемные явления не должны существовать в силу преобразования человеческой природы по естественным законам разума и добродетели либо в силу радикального пересмотра социальных запретов и предписаний. Вместе с тем современная действительность заставляет признать неизбежность теневых социальных структур и опасность вытеснения ими системных социальных явлений. Основным способом предотвратить тенденцию к усилению антисистемных явлений в обществе служит (наряду с запретами и репрессивными мерами) формирование каждой системой адекватного ей социального характера.
Как указывает Э. Фромм, «функцией социального характера является формирование и направление человеческой энергии внутри данного общества для того, чтобы общество продолжало функционировать» (Фромм, 2005: 253). Сходный взгляд излагает российский философ А. А. Зиновьев в отношении национального менталитета: «Характер народа создается путем искусственного поощрения одних прирожденных способностей людей и препятствования другим. Происходит это как искусственный отбор индивидов с определенными природными способностями. Механизм отбора определяется социальными, а не биологическими законами» (Зиновьев, 2006: 205). Однако внеприродный механизм формирования национального (или социального) характера не означает его пластичности и возможности произвольно корректировать его согласно тому или иному социальному проекту: «Это — единый комплекс взаимосвязанных признаков. Если такой комплекс сложился, к нему нельзя добавить ничего постороннего и из него нельзя исключить ничего существенного, не разрушая его. Народы исторически изменяются, но в рамках одного и того же характера» (Зиновьев, 2006: 206). Иными словами, социальная система формирует адекватный ей социальный характер — те черты личности и поведения, которые способствуют сохранению и функционированию системы. Такая природа социального характера не исключает аксиологического подхода к личности и поведению индивида. Если в основе оценки действий лежат интересы социальной общности, это не означает морального релятивизма («нравственно то, что выгодно»). В той же мере ошибочны стереотипы о наличии социальных систем, отбирающих и поощряющих ценностно негативные черты социального характера (ярким примером таких представлений в художественном творчестве является фильм «Убить дракона» по мотивам пьесы Е. Шварца «Дракон»). Не менее ошибочны и стереотипы социальных характеров, содержащие в себе только ценностно положительные черты («народ-богоносец»).
Наиболее близким к истине полагаем утверждение, что социальный, как и индивидуальный характер является сложным, зачастую противоречивым сочетанием ценностно положительных и ценностно отрицательных свойств. Социальная система контролирует поведение посредством норм и санкций. Поведение и черты, противоречащие интересам конкретного социального целого, признаются в этом социуме девиантными. Они составляют своего рода теневую сторону социального характера, наряду с неизбежно существующими в каждом социуме теневыми социальными структурами. Цель таких структур — обслуживание потребностей, признаваемых девиантными. В том случае, когда социальная система по тем или иным объективным причинам оказывается неспособной удовлетворять потребности социальной общности, возрастает влияние теневых структур, где поощряются девиантные черты характера. Соответственно этому, источником трансформации социального характера оказывается не столько привнесение в него новых качеств, сколько востребованность качеств, ранее признанных девиантными.
Проанализируем, насколько развитие информационного общества предопределяет трансформацию социального характера. По мнению философа и социолога Э. Тоффлера, люди постиндустриального общества «будут стремиться к равновесию в жизни — равновесию между работой и развлечением, между производством и производством-потреблением, между умственным и физическим трудом, между абстрактным и конкретным, между объективностью и субъективностью» (Тоффлер, 2004: 617). Иными словами, новый технологический уклад создаст более гармонично развитую личность. Экономист и социолог Р. Флорида отмечает определяющее влияние креативного класса на социальный характер, — влияние, отличное от норм традиционного общества: «Индивидуальность, самовыражение и терпимость к различиям между людьми пользуется преимуществом по сравнению с однородностью, конформностью и стремлением быть как все, определявшими предшествующую эпоху крупносерийного производства и больших организаций» (Флорида, 2016: 34). Более того, информационное общество при этом не только рассматривается как качественно новая социальная организация, но и противопоставляется предшествующим формам социальной организации. В работе «Шок будущего» Э. Тоффлер отмечает: «Изменяя наше отношение к окружающим нас ресурсам, сильно расширяя диапазон перемен и, что наиболее важно, ускоряя их темп, мы безвозвратно порвали с прошлым. Мы отрезали себя от старых способов мышления, восприятия и адаптаций. Мы расчистили сцену совершенно новому обществу и теперь устремляемся к нему» (Тоффлер, 2002: 30).
Дихотомия в системе ценностей информационного общества
Элементом нового информационного общества является идея модернизации. Российский социолог В. Л. Иноземцев[1] указывает, что «идея модернизации в своей основе предполагает отказ от традиций и максимальную рационализацию общественной жизни — и тем самым прямо противостоит основной идее современной России, консерватизму» (Иноземцев1, 2018: 174). Примером успешной модернизации признается западноевропейский опыт. Иноземцев1 противопоставляет западноевропейское общество, прошедшее модернизацию на основе ценностей индивидуальной свободы, российскому, с его выбором традиционализма и консерватизма. В свою очередь, политические деятели Западной Европы позиционируют свое сообщество как «цветущий сад», противопоставляя его всему остальному миру как «джунглям». Таким образом выстраивается дихотомия по системе ценностей общества и сообщества: Западная Европа принимает новую систему ценностей, в противостояние России и странам Глобального Юга, которые сохраняют систему ценностей традиционных. Очевидна возможность двух интерпретаций наблюдаемой дихотомии. Во-первых, природа раскола по системе ценностей сообществ интерпретируется в соответствии с историко-культурными концепциями А. Тойнби и С. Хантингтона — противопоставляются качественно различные цивилизации. Во-вторых, Западная Европа рассматривается как пример информационного общества — новой ступени развития цивилизации — и противопоставляется России и Глобальному Югу, отрицающим ценности модернизации.
Система ценностей общества формирует нормы поведения, поэтому рассмотрим информационное общество в контексте понятий новой этики и постгуманизма. Безусловно, сопоставление этих понятий заслуживает особого анализа, но термины уже указывают на противопоставление этики информационного общества традиционной этике. Это утверждение обнаруживает содержательную близость такому существенному признаку утопии, как антиисторизм. Польский исследователь утопии Е. Шацкий отмечает: «Историк объединяет время в одно целое, утопист разбивает его на противостоящие друг другу части. Он, само собой, нередко ссылается на историческую науку — точно так же, как на устную традицию и преобладающие в обществе чувства и привязанности, точно так же как раньше он ссылался на географию и преэтнологию. Но он не историк и не может им быть. История сливается тут с легендой, правда с фантазией, прогноз с мечтой, воспоминание с надеждой» (Шацкий, 1990: 79). Сходную черту утопии отмечает Ф. Аинса: «В классической утопии нет ни прошлого, ни будущего, ибо в ней развитие невозможно. Как только утопия реализована, начинается царство вечного настоящего, статического времени, характерного для всех райских видений, и потому неизвестно, когда и как произошли те изменения, что породили утопию. Отсутствие развития упраздняет проблему исторической причинности» (Аинса, 1999: 24). Таким образом, в самой практике утопии содержится противопоставление исторической традиции. Новые представления о социальной норме здесь противопоставляются исторически сложившимся. В свою очередь, утопический проект противопоставляет исторически сложившуюся социальную систему — той, которая провозглашается наиболее соответствующей человеческой природе.
Социальная организация, наиболее соответствующая человеческой природе в обществе и сообществе, строится на ценностной системе. Общеизвестно, что ценности индивидуальности, свободы самовыражения, поисков гармонических начал личности зачастую принимают превращенную форму, доходящую до риска расчеловечивания личности. Нарастает тенденция к дихотомии ценностной системы как результат антиисторизма, отхода от социальных традиций. Поэтому современное западное общество представляется не столько сферой развития креативности и наиболее благоприятных условий для гармонически развитой личности, сколько сферой доминирования девиантных субкультур и распространения мнимых, искаженно понимаемых свобод. Эта тенденция была отмечена в «Третьей волне» Э. Тоффлера как признак кризиса индустриальной цивилизации. Американский социолог выделяет возрастающее психологическое напряжение в социуме как реакцию людей на то, что «на них постоянно наступает всё увеличивающаяся армия взвинченных, странных личностей, недоумков, чудиков и психов, чье антисоциальное поведение средства массовой информации часто окружают романтическим ореолом» (Тоффлер, 2004: 578). Показательно в связи с этим утопическое произведение конца XX в., в котором «сексуальная распущенность была переопределена в сексуальную открытость, в которой процветают теплые и нежные чувства, а сексуальные игры детей стали частью естественного процесса. Феминистская генная инженерия была полностью доброжелательной, расовые различия стирались путем смешения генов, а культурное разнообразие все еще поощрялось и приветствовалось» (Уилсон, 2007: 246). Иными словами, в социуме возрастает доля девиаций, что сопровождается пересмотром социальной нормы — путем романтизации извращенных отклонений в поведении. Данная тенденция указывает на то, что традиционное (прежде всего западноевропейское) общество утратило способность сохранять себя через воспроизводство институтов семьи, государственности, религии, институтов передачи культурных ценностей и поведенческих установок. Для этих институтов и связанных с ними организаций характерно доминирование антисистемных, девиантных «ценностей». В искусстве это — трансформация художественных произведений в соответствии с требованиями «толерантности», вопреки логике сюжета. Все эти факторы указывают на трансформацию политики продвижения и поддержки разнообразия — в форму противоположную.
Трансформация ценностей в коммунистической идеологии. Тенденция возвращения к историческому опыту
Подобные кризисные явления обусловливают вопрос о будущем социума. Ответ требует осмысления ситуации распада существующих социальных институтов, поддерживаемой ими системы ценностей, формируемого ими социального характера. Историческим примером такой трансформации является развитие российского общества после Октябрьской революции 1917 г. Заслуживает внимания исторический опыт антисистемного политического движения: приход к власти, идеология, полностью противопоставленная установкам и ценностям ранее существовавшей социальной системы. Данная позиция была декларирована в труде Ленина «Государство и революция»: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии» (Ленин, 1962: 33: 26). Содержательно революционная суть этой позиции близка установкам, которые сформулировал Р. Флорида: «Перед нами стоит задача создать новые формы социальной сплоченности, соответствующие новой креативной эпохе (старые уже не работают, поскольку больше не подходят тем людям, которыми мы стали), а затем приступить к реализации общего видения лучшего и более благополучного будущего для всех нас» (Флорида, 2016: 24).
Общеизвестно, что коммунистическая идеология не ограничивалась одними лишь вопросами социального управления. Она также предлагала альтернативные существовавшим представления о мироустройстве и природе человека. Российская интеллектуальная традиция изначально содержала в себе религиозный компонент представлений о мире и сущности человека. Деистические идеи Просвещения, а затем и материалистические идеи составляли скорее маргинальное направление отечественной интеллектуальной мысли. В свою очередь, неотъемлемой частью большевизма как идеологии было материалистическое учение о мире и природе человека. Ситуацию, в которой религиозные представления о Вселенной и человеке сменились материалистическим учением, обрисовал А. Ф. Лосев: «Исповедовали часто в Европе так, что одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха не имеет смысла сама по себе, но она тоже — навоз и почва для третьей эпохи и т. д. В результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать мифологией социального нигилизма, какими бы “научными” аргументами ее ни обставлять. Сюда же нужно отнести также и учение о всеобщем социальном уравнении, что также несет на себе все признаки мифологически-социального нигилизма» (Лосев, 2001: 8). Иными словами, мыслитель признавал сущностью материалистического учения — миф отрицания положительного содержательного начала в каком-либо явлении. Такое отрицание не столько освобождает личность и обеспечивает ей объективное знание реальности, сколько лишает предметы и явления мира смыслового содержания. В социально-политическом аспекте оно означает утрату содержательных основ социального бытия. Устойчивость данного направления коммунистической идеологии показал И. А. Ильин: «…Это люди, реально начавшие мировую войну за социализм и интернационализм. Правда, во многих странах борьба за эту высокую цель (отмена религии, родины, семьи и частной собственности) начата не ими; она шла уже и до них» (Ильин, 2005: 407).
Таким образом, исход Октябрьской революции интерпретируется как победа антисистемного, радикального политического учения, отрицающего не только основы ранее существовавшей социальной системы, но и сложившиеся представления о мире и человеке. Однако следует обратить внимание на трансформацию данной идеологии в соответствии с необходимостью поддерживать социальный порядок. Ликвидация институтов и структур, социальная система которых обеспечивала стабильность общества, ставит проблему создания новых основ социального бытия. Общеизвестно, что первые десятилетия Советской власти характеризовались не только представлениями об уничтожении социальных слоев, препятствующих созданию справедливого общества. Заслуживают внимания также представления о преобразовании природы человека посредством пропаганды, агитации участвовать во вновь созданных социальных структурах. Этими методами будет создан «новый человек» как строитель и участник «нового общества», лишенного противоречий прежнего социального порядка.
Исторический опыт показал, что с приходом к власти И. В. Сталина произошло существенное изменение подходов к социальному управлению: «Сталин использует русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти. Он не может — возможно и не хочет — быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время, когда он — строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков — русских князей и царей — собирателей и строителей могучего государства» (Геллер, Некрич, 2000: 283). Иными словами, цели социального управления потребовали обращения к практикам и ценностям ранее отрицаемой социальной системы.
Опасность власти сил, «разрушающих стихии», отмечал и Н. А. Бердяев: «Из кого будет состоять тот последний остаток, в котором сосредоточится и воплотится “революционный” дух? <…> Диалектика завершается, революция в конечной своей точке переходит в свою противоположность, возвращается к исходному. Так всегда бывает. На самой крайней левой оказываются те же, которые были и на самой крайней правой. Мы возвращаемся к чистейшему черносотенству, к чистейшему мракобесию, к чистейшей реакции» (Бердяев, 2006: 72).
Обращает на себя внимание особенность формирования государственности, как советской, так и американской: государственность складывалась не столько как ответ на исторические вызовы, сколько как попытка реализации идеологического конструкта. Для Советского Союза таким конструктом была идеология марксизма, в то время как для США — теория гражданского общества, разработанная Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо и иными мыслителями эпохи Просвещения. В обеих попытках реализации идеологического конструкта создаваемая государственность провозглашалась как образец качественно нового общества, гарантирующий социальную справедливость.
Трансформация антисистемных социальных сил в истории США. Антиисторическая тенденция. Взаимосвязь идеологии с социумом
Общеизвестно, что начало колонизации Северной Америки Британией было обусловлено целью переселить в заокеанские колонии маргинальные слои британского общества. Сам этот процесс интерпретировался переселенцами как переход к новому, более совершенному обществу: «Для всех них переселение в Америку было сродни новому рождению. Во всем остальном они различались. Больше того: перемешанные в едином английском обществе, создатели первых колоний отправлялись за океан группами единомышленников, создавая доминирующие в новых поселениях сообщества из тех, кто оставался в Англии меньшинством» (Курилла, 2025: 16).
В дальнейшем развитие американского общества на идеях Просвещения привело к созданию нетривиального социально-политического проекта: «Со своей антиисторической позиции американские республиканцы ухватились за “принцип надежды” и с нетерпением ждали будущего, в котором экономическая и территориальная экспансия обеспечит процветание “свободному и независимому человеку”. Сам акт такого представления о будущем подрывал почтительное отношение к прошлому. Вместо того чтобы увязать в трясине заключенного в рукописях авторитета умерших, американские республиканцы сосредоточатся на всеобщих правах, настоящем и будущем» (Уилсон, 2007: 122). Иными словами, социальная общность образовалась из антисистемных социальных слоев породившего ее общества. Со временем сформировалось представление об идентичности, отрицающее историческую преемственность, традиционные религиозно-монархические представления об устройстве мира и природе человека, утверждающее создание качественно новых социальных структур, обеспечивающих успех носителям нового социального характера.
Особого внимания здесь заслуживает представление о взаимосвязи идеологии с социальными структурами. Американский социолог Ф. Фукуяма рассматривает эту связь следующим образом: «Многие диктаторы в развивающихся странах некомпетентны в вопросах обеспечения экономического роста и к тому же коррумпированы. Реформаторы, добивающиеся правовой либеральной власти, напротив, как правило, склоняются к демократическим ценностям. Но можно привести и менее очевидное соображение. В конечном счете хорошее правление невозможно без демократии и общественного политического участия» (Фукуяма, 2008: 188). Во влиянии этого представления «американское отношение к народам, которые, по мнению американцев, заимствовали их достижения, будь то борьба за независимость, строительство демократии или технологическое перевооружение по американскому образцу, обычно было позитивным: эти факты свидетельствовали о том, что США в самом деле являются примером для всего человечества» (Курилла, 2025: 153). Однако в дальнейшем такое самовосприятие в американском обществе породило противоречия, наблюдаемые в наше время. С одной стороны, после Второй мировой войны при участии США сложились международные институты, во многом воспроизводящие американскую политическую систему «сдержек и противовесов». Это могло бы служить одним из доказательств преимущества американской социальной модели не только во внутриполитическом, но и в геополитическом аспекте. С другой стороны, как отмечает Ф. Фукуяма, «международная легитимность предполагает деятельность в рамках международных институтов, которые по определению медлительны, жестки и подчинены массе громоздких методов и процедур» (Фукуяма, 2008: 252). Иными словами, цели распространения геополитического влияния США ограничены созданными при их же участии структурами. Разрешение данного противоречия требовало особых мер, поэтому «цель противостояния коммунизму оправдывала любые средства. Для того, чтобы согласиться с таким подходом, президентам и судам Соединенных Штатов потребовалось отделить внешнюю политику от традиционных конституционных ограничений и провозгласить, что в международной и внутренней политике работают разные принципы. Действия на международной арене не затрагивают внешних свобод» (Курилла, 2025: 218). Иными словами, текущие интересы социальной общности обусловливали отступление от тех принципов, на которых эта общность создавалась. Множество примеров указывают на то, что это отступление стало частью и внутриполитической практики США. Достаточно упомянуть несколько фактов:
– незаконная слежка за гражданами и судьба Э. Сноудена, выступившего с разоблачением противоправных действий политической элиты;
– применение незаконных методов следствия к обвиняемым в терроризме и судьба Дж. Ассанжа, разоблачившего данные действия;
– различные оценки, включая правовую оценку участников расовых беспорядков 2020 г. и участников штурма Капитолия после поражения Д. Трампа на выборах.
Следовательно, социальная общность отступает от тех принципов, которые лежали в основе ее идентичности, и принимает на вооружение методы, которые отрицались как проявление авторитарной и тоталитарной практики: силовое подавление без правовых ограничений политического и идеологического противника.
Заключение
Власть антисистемных социальных сил и вызванные ими девиации постепенно приводят социальную общность к противоположной ей политической форме: идея полного освобождения человеческой личности трансформируется в тоталитарную диктатуру.
При этом следует отметить, что цели диктатуры несводимы к поддержанию неограниченной власти отдельной политической силой (или отдельным политическим деятелем). Разрушение социальной системы вызывает рост девиаций. Первоначально они рассматриваются как результат несправедливого социального порядка, который устраняется созданием справедливых, соответствующих природе человека социальных структур и социальных норм. В дальнейшем, однако, развивается репрессивный аппарат — для подавления всех форм поведения, не признаваемых вновь сложившейся социальной системой. Радикальный характер социальных сил, разрушавших прежнюю систему, предполагает радикальный характер репрессий для поддержания системы новой. Заслуживает внимания и тот факт, что ответы новой социальной системы на вызовы требуют обращения к ранее отрицаемым ценностям и практикам.
Исследование особенностей антисистемных социальных движений позволяет интерпретировать их как проявление теневой стороны социальной общности. Неспособность социального целого ответить на возникающие перед ним вызовы порождает рост антисистемных движений, сопровождаемый ростом девиантного поведения, смещением системы ценностей, делегитимизирующим существующую социальную систему. Отсюда следует переход функций социального управления к антисистемным общественным силам. Для осуществления этих функций вновь пришедшие к власти социальные силы создают свои социальные институты, распространяющие свои системы ценностей и формирующие адекватный им социальный характер. Таким образом антисистемное движение трансформируется в социальную систему.
Основные противоречия здесь связаны с характером тех ценностей, которые декларирует антисистемное движение. Ценности антисистемного движения зачастую представляют собой антиценности, следование которым не способствует сохранению социального целого. Так, например, интернационализм как насаждаемая в первые годы после революции ценность явно выявил свое противоречие с объективной необходимостью сохранения российской государственности хотя бы в качестве базы для коммунистического государства, а радикальный коллективизм показал свое противоречие с потребностями основной социальной базы коммунистических властей. Вследствие этого при переходе антисистемы в систему идеологические постулаты антисистемного движения принимают чисто декларативный характер.
Постгуманизм как часть современной западноевропейской культуры предстает (раскрывает себя) в качестве антисистемного элемента, доминирующего в западноевропейской цивилизации. Исторические аналогии дают основание предположить дальнейшее преобразование антисистемного движения в систему, в которой ко всем положительным и отрицательным признакам социальных институтов и организаций добавляется тоталитарный характер вновь возникшего целого.
[1] Владислав Леонидович Иноземцев внесен в реестр иностранных агентов.
1. Аинса Ф. Реконструкция утопии: эссе. Пер. с фр. Е. Гречаной, И. Стаф. М.: Наследие, 1999. 207 с.
2. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2006. 444 с.
3. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М.: МИК, 2000. 856 с.
4. Зиновьев А. А. Фактор понимания. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. 528 с. (Философский бестселлер).
5. Ильин И. А. О сопротивлении злу силою: Pro et contra. М.: Айрис-Пресс, 2005. 573 с. (Белая Россия).
6. Иноземцев В. Л. [Иноагент] Несовременная страна: Россия в мире XXI века. М.: Альпина Паблишер, 2018. 406 с.
7. Курилла И. Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США. М.: Альпина Паблишер, 2025. 320 с.
8. Ленин В. И. Государство и революция. М.: Политиздат, 1962. XXII, 433 с. Т. 33 из Полное собрание сочинений. 5-е изд.
9. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 558 с. (Философское наследие).
10. Мамардашвили М. «Форма превращенная». Сигнальные системы — Яшты. М.: Сов. энциклопедия, 1970. 389. Т. 5 из Философская энциклопедия.
11. Маркс К. Теория прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). М.: Госполитиздат, 1964. 674 c. Т. 26, ч. 3 из Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
12. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 781 с.
13. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2002. 557 с.
14. Уилсон Д. История будущего. М.: АСТ; Хранитель, 2007. 286 с.
15. Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. М.: Айрис-пресс, 2005. 344 с.
16. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые создают будущее. Пер. С англ. Н. Яцюк. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 373 с.
17. Фукуяма Ф. Америка на распутье: демократия, власть и неоконсервативное наследие. М.: АСТ, 2008. 282 с.
18. Шацкий Е. Утопия и традиция. Пер. с польск. Общ. ред. и послесл. В. А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1990. 454 с.